
Все отзывы о фильме «Еще по одной»
Рецензия Афиши
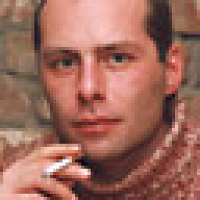
Пьянящее возвращение догмы Томаса Винтерберга
Эту картину в разных странах показывают под теми названиями-выражениями, какие местные выпивохи употребляют, предлагая опрокинуть «еще по одной» (по-английски, например, картина называется «Another Round»), а у себя на родине, в Дании, она идет под простым и броским заголовком «Запой». По-датски это звучит особенно круто — «Друк», и странно, что наши прокатчики, выбирая русский эквивалент, не сыграли на очевидном созвучии с другим таким же фонетически хлестким, как датское слово druk, вариантом русских алкашей призвать к тому же самому — «Вздрогнем!». Так или иначе, как датскую картину ни называй, а в ней есть-таки четыре друга и их совместный «друк», затянувшийся на целый учебный год. Можно было бы сказать — 9 месяцев, но учебный год будет вернее, так как все эти четверо друзей — преподаватели в одной школе.
Все началось, как и полагается в школе, в начале сентября, когда природа лживо зеленела в слишком ранних и зябких сумерках, и трое коллег, учитель пения, историк и физрук, подтянулись в шоколадные покои гурманского ресторана — согреться и поздравить с 40-летием четвертого из них, преподавателя психологии. В том ресторане на закуску было принято подавать черную икру и непременно в сопровождении запотевшей рюмки русской водки, «дважды профильтрованной через кварц и какой не гнушался и сам царь». Первая же закуска вызвала у друзей такой единодушный восторг, что они попросили оставить им всю бутылку, а историк (Мадс Миккельсен), уже годами в рот не бравший ни капли, не устоял перед соблазнительным примером товарищей, зачерпнул ложку икры, опрокинул рюмку, и тут стройный квартет запел что‑то народное, привольное, и из глаз историка покатились слезы: «Все в порядке. Просто я совсем один». «А как же Аника?» — забеспокоились друзья. «Мы почти не видимся, у нее всегда ночные смены».
В юности мнивший себя ковбоем и ходивший заниматься джаз-балетом герой Миккельсена стал совсем скучным. Это в тот вечер признала и Аника (Мария Бонневи), уходя на смену: «Да, ты не тот, что был, когда мы познакомились». Он скучен своим детям, мальчишкам-подросткам, он скучен и своим ученикам-старшеклассникам: когда накануне он завел очередной бубнеж про индустриализацию, самый выкидной, красавец-блондин Мальте, выскочил из класса со словами «Бред какой‑то!» и поднял одноклассников и их родителей на бунт — с таким учителем с потухшими глазами им не набрать проходной балл для поступления в университет, учитывая, что в Дании балл по истории удваивается.
И тогда тот друг, что преподавал психологию, достал книжку норвежского философа и психиатра Финна Скэрдеруда, утверждавшего, что человеку по жизни не хватает половины промилле. То есть, чтобы быть раскованным и смелым, необходимо выпивать количество алкоголя, равное одному-двум бокалам вина, и на протяжении дня поддерживать этот уровень алкоголя в крови. Друзья решили устроить эксперимент, и уже через неделю Мальте глядел историку в рот и рвался к доске, школьный хор пел как сонм горних ангелов, а очкарик, с которым на футбольном поле одноклассники брезговали поделиться водой, забивал решающий гол в ворота противника.
Друзья решили углубиться в эксперимент дальше: наверняка Скэрдеруд приводил усредненные данные, но ведь для каждого организма норма своя — возможно, удвоенные дозы приведут их к еще более ярким результатам. Они изучали питейные нравы знатных алкоголиков прошлого, Черчилля, Хэмингуэя и датского пианиста Клауса Хеерфордта, никогда не садившегося за инструмент в трезвом виде. Для вдохновения ставили пластинки со стройным и полным стоического принятия жизни и смерти фортепианным дуэтом Шуберта в исполнении Хеерфордта и одного из его собутыльников. Перед их глазами плыла политическая хроника: Ельцин щупает дам и хохочет с Клинтоном, как в финале «Винни-Пуха», Меркель заправляется большой кружкой пива и Брежнев сидит в телевизоре со словами: «Здравствуйте, дорогие юные зрители! С наступающим вас Новым годом!» Короче, эксперимент уверенно шел в том направлении, о котором так метко сказала однажды 5 января в дневном эфире Регина Дубовицкая: «Друзья мои, наш праздник набирает обороты!»
В истории игрового кино случаи, когда объектом экранизации становится не художественный вымысел, а научная теория по нейробиологии, можно пересчитать по пальцам — но что это будут за примеры! Один из них — шедевр Алена Рене «Мой американский дядюшка» (1980), созданный по опытам над крысами выдающегося медика, изобретателя анестезии Анри Лабори, обнаружившего единые схемы, управляющие поведением как грызунов, так и людей.
В случае с новым фильмом Томаса Винтерберга, прародителя датской «Догмы-95» и постановщика официального догма-фильма номер один «Торжество» (1998), опасения вызывает то, что персонажи актеров, взявших коллективный приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Сан-Себастьяне, рискуют стать для зрительского подражания примером слишком заразительным, необоримым. Да, люди не крысы. Но люди — пьяницы.
Как человек, дважды поставивший над собой эксперимент ознакомления с фильмом «Друк», могу с уверенностью утверждать: после первого просмотра фильма ох как тянет выпить. Во второй раз я просто встретил его, уже хорошо зная, с каким демоном мне предстоит столкнуться, и твердо решил заранее ему противостоять. Ведь фильм, ставящий правдивый эксперимент, не обошел той правды, что приходит фаза, когда испытуемый может только ползать и мочиться под себя, а иных — и тут не будет никакого спойлера, коль скоро мы столковались, что эксперимент удался и был честным, — алкоголь в неограниченных подходах элементарно вгоняет в гроб. Во второй раз только хотелось четче проследить, где у меня как у зрителя находятся те точки воздействия, как у крыс Лабори, на которые фильм жмет, вызывая желание опрокинуть в себя бутылку.
Впрочем, ничего нового этот второй просмотр не открыл, только уточнил впечатление от первого: как и во всяком произведении, что бьет в цель, дело в очень точно отобранных состояниях атмосферы. Погода, время суток, угол садящегося солнца — все эти факторы воздействия Винтерберг в каждой сцене собирает в тот необходимый узел, что дает исчерпывающую картину запускающего механизма выпивки или узнаваемую фазу опьянения.
Когда физрук делает глоток из термоса — и на секунду солнце бьет ему ровно в темя, проливаясь радужными разводами в камеру.
Когда после триумфа своих учеников наши друзья бредут в стелющемся под ноги закатном медовом солнечном ковре, сигнализирующем об отдыхе после трудного и принесшего искомый успех дня. Чего в такой момент хочется?
Когда в равнодушном белом свете ранней зимы за окном в логово психолога заглядывает его красавица-жена (невероятная красавица-актриса Хелена Рейнгорд Нойман) с вопросом «Пьете уже?» и отправляется на капоэйру, оставляя бесхозных друзей одних дома у самых ворот целого тишайшего, безликого и бесформенного дня, когда их никто не потревожит.
Ну как тут не напиться? Единственно правильный свет пойман в каждой сцене. И здесь это особенно волшебно, потому что Винтерберг, снимавший в недавнее время разные фильмы (предыдущим была панъевропейская ретрокатастрофа «Курск» о мурманской подводной лодке), в «Друке» вернулся к заповедям «Догмы-95». Они призывали: никаких осветительных приборов, только ручная камера, не декорации строятся для съемок, а съемки проводятся в естественных декорациях. В герметичном семейном скандале «Торжества» соблюсти это и передать атмосферу было просто. Но «Еще по одной» — фильм, который меняет десяток мест действия, времен дня и времен года. И каждый схваченный в нем миг безукоризненно точен, каждый — тот самый идеальный момент, который так напрасно искала и культивировала героиня «Тошноты» Сартра.
Кстати, эта особенность фильма — играть на каких‑то тактильно знакомых ощущениях — распространяется и на игру центрального исполнителя роли историка Мадса Миккельсена. Хотя приз в Сан-Себастьяне получили все четыре исполнителя, но двое — психолог и учитель пения — работают хоть и на точно угаданных фактурах, но пребывающих в статике, неизменных, а третий — спутник Винтерберга со времен «Торжества» Томас Бо Ларсен — в роли физрука имеет свое драматическое преображение, но проводит его по Станиславскому. Миккельсен же играет за пределами традиционного драматического искусства. Его состояния сменяются с той же естественностью и непредсказуемостью, как солнце в кадрах, которое, с виду неизменное, вдруг так меняет свой угол, что преображается все состояние сцены.
В описанном выше эпизоде в ресторане он поначалу со своими архаичными чертами выглядит как черепаха, подслеповато щурится, готовый в любой момент убраться в свой панцирь. Но вот первая рюмка водки — и еще до, собственно, слез глаз уже наполняет та слеза, которую Гессе и называл «взглядом пробужденного»: он внезапно видит, что мир, так привычный ему 20 лет назад и так крепко забытый, никуда не девался, был здесь, и все эти 20 лет он смотрел на него, но не видел. Вот отчего на самом деле он плачет в той сцене.
Интересно, что это возвращение Винтерберга к истокам (в его случае — догматике «Догмы-95») совпадает с магистральным направлением авторского кино последних двух лет. Начавшийся с искреннего объяснения Альмодовара в фильме «Боль и слава» того, почему он лажал долгие годы, и с возвращения Тарантино в тот самый его любимый момент киноистории, который он хотел бы переписать (и переписал) в «Однажды в Голливуде», он продолжился возвращением в Канаду к полудомашнему кино Ксавье Долана в «Матиасе и Максиме» и к собственной юности, человеческой и кинематографической, Франсуа Озона в «Лете 85-го». Есть и другие примеры. Процесс этот неслучаен. Нынешний виток развития общества характеризует настройка на крайний индивидуализм, когда каждый разгребает завалы наносных ожиданий, представлений, амбиций, отбрасывает ярлыки и ограничения, возвращаясь к своему подлинному «я».
Поначалу этот процесс принимал несколько агрессивные формы — как, впрочем, и манифест «Догмы-95», призывавший отвергнуть киноязык, чтобы «очистить», «ниспровергнуть» и так далее. Но вот шли, как в «Друке», осень, зима, весна. Принципы «Догмы-95», о которых, казалось, забыл сам Винтерберг, как‑то незаметно стали принципами кино. Восторжествовала цифра. Непричесанный лук и ручную камеру мы наблюдаем во всяком видеоматериале — от онлайн-встреч с близкими по скайпу и вотсапу до самой что ни на есть студийной голливудской продукции. То, что выросло из протеста, стало естественным и неопровержимым, просто данностью.
Злые датчане, оказывается, были не злыми, просто немного пророками, увидели дальше, чем мы тогда. Их установки, их принципы взяли и разлились по всей кровеносной системе кинематографа: они били кино по голове, чтоб выбить из него желание понравиться, приукрасить, а теперь кино просто так дышит, фиксируя ту красоту и те уродства, на какие богата вселенная. Что ж удивляться, что именно сейчас давние принципы взъерошенной молодости позволили Винтербергу показать не семейный скандал, как тогда, а все богатство мира. Мира настолько упоительного, что нет никакой возможности за это не выпить.

Чего только не придумают обеспеченные и изнывающие от безделья мужчины. Хотя сначала была мысль рассмотреть идею фильма с точки зрения парадигмы актуального ныне "мужского одиночества в жестоком феминистическом мире"... Но, в итоге, не получается. Для российского обывателя условия жизни датских школьных учителей - запредельно оранжерейные. Им не хватает драйва. Движухи. Вот они и начали выпивать, чтобы директриса и жены "поругали их за хулиганство". Опасность щекочет нервы. Рисковые парни, что и говорить.
У каждого, я думаю, найдется пример похожего школьного учителя, который ленился заниматься репетиторством для заработка и поэтому деградировал...
Очевидно, что фильм вытащил Маас Миккельсен. Он хотя и играет "историка", но мы-то его знаем, как чувака, который чуть было Джеймса Бонда не угробил. Если бы не он, кино не стоило бы просмотра. А так - да, прикольно.

Кажется, это переработка багажа Аронофски: от морализаторского сюжета (в «Реквиеме по мечте» молодые наркоманы, а тут алкоголики среднего возраста, и мораль тоньше) до визуальных образов (финальное па героя а-ля крестообразный полет Микки Рурка, которым завершился «Рестлер»).

Что если человеку с самого рождения не хватает чуточку алкоголя в крови?! Так, во всяком случае, по словам одного из героев нового фильма Томаса Винтерберга «Ещё по одной» считает норвежский психиатр Финн Скэрдеруд. Алкоголь помогает человеку стать более раскрепощенным, радостным и дает возможность насладиться всеми прелестями жизни. Это не значит, что нужно бухать, как чёрт, необходимо лишь выпивать по несколько бокалов в день и поддерживать в крови те самые магические 0,5 промилле. Причем исключительно в будни и в рабочее время.
«Ещё по одной» представляет собой замечательную трагикомедию, главными героями которой становятся четверо учителей датской школы, решившие на себе (исключительно в качестве научного эксперимента) проверить вышеупомянутую теорию. Эта картина не столько о пьянстве, сколько о кризисе среднего возраста и потухшем взгляде наших преподавателей. Неслучайно, что именно учителя, образцы для подражания, проводники в мир знания, да и самой жизни, оказываются на первом плане. Ведь совершенно не ясно какой преподаватель лучше/хуже, тот который без энтузиазма бубнит параграф из учебника (да еще и тот, что уже успели пройти на прошлом уроке), или фонтанирующий идеями и пытающийся научить своих подопечных (которые уже тоже любят припить пивка на уютном озере) необходимым знаниям, пусть и слегка под мухой?!
«Ещё по одной» — это не торжественная песнь пьянке, показывающая, что бухать – круто, что алкоголь – решение всех проблем, но и не морализаторская агитка, растолковывающая каждому дураку, что распивать горячительные напитки – последнее дело, а трезвость превыше всего. Так уж сложилось, что алкоголь – часть нашей жизни. И как каждый из нас справляется с этим по-своему, так и героям фильма придется пройти разные стадии алкогольного опьянения и по-разному из них выйти. Ну, а тонкий юмор с прекрасной актерской игрой алкогольного квартета во главе со звездой паневропейского кинематографа Мадсом Миккельсеном, да уморительные вставки кадров хроники с известными политиками, заложившими за воротник, должны растрогать и закоренелого трезвенника и ярого поборника здорового образа жизни.
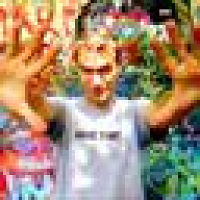
Несколько занудная экранизация хрестоматийного правила разумной меры, особенно когда стоит вопрос о влиянии алкоголя на твою социальную жизнь. Мадс Миккельсен в роли Джона Траволты после финального танца может претендовать на лицо какого-нибудь пивного бренда типа Карлсберга. Гораздо более любопытно и кругозорорасширительно посмотреть на проведение выпускного школьного бала в Дании и пивные гонки старшеклассников:)

Искусство меры
Заходят как-то в бар историк, психолог, учитель пения и физрук. И решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?
Герои фильма — четверо учителей средней школы, которые на Дне Рождения одного из них (учителя психологии) решают провести эксперимент. Согласно теории философа Финна Скордеруда - у каждого человека в организме - врождённая нехватка половины промили алкоголя. Друзья решили выпивать каждый день (пить как Хемингуэй - каждый день до 8 вечера, и кроме выходных), и проверить, действительно ли ежедневные алкогольные возлияния повышают работоспособность. Изучить "психологические и психориторические воздействия", допится до "вспышки" и добиться "катарсиса". В дальнейшем уровень алкоголя возрастает и постепенно (ожидаемо или нет) эксперимент выходит из-под контроля.
«Ещё по одной» - фильм датского режиссёра Томаса Винтерберга (Охота, Вдали от обезумевшей толпы) - сильная, духовная комедийная драма о том, что "греет душу" и спасает "на время от неприятностей" каждого человека. Психологическая, тонкая "зарисовка" с хорошим сценарием и не менее откровенными актёрскими работами, где у Мадса Миккельсена (Казино Рояль, Охота) - действительно, сильный "бенефис" с героем, вроде-бы как центральным в этой четвёрке напарников. Его герой - Мартин - учитель истории, на одном из уроков загадывает трёх политических деятелей - кого-бы выбрал класс. Ученики неожиданно для себя выбрали непьющего и здорового Адольфа Гитлера, вместо пьющих и не вполне здоровых Рузвельта и Черчилля. Вообще, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль - здесь подаётся как "живой пример" человека, страдающего от алкогольной зависимости, и сумевший совершить то, за что все его знают. Также, здесь невзначай присутствуют кадры с современными политическими лидерами, среди которых также архивные кадры с Борисом Ельциным. Острый философский вопрос: "Пить или не пить?" - каждый решает для себя по-своему. "Только тот кто упал - может полюбить других и жизнь" - сказал другой известный философ Сёрен Кьеркегор. И с ним невозможно не согласиться.

Хороший фильм о "переключении скоростей", жизненной инерции и обретении нового смысла! ...и это реальное достижение в кинематографии: снят фильм прекрасно, органично - смотреть крайне интересно. Рекомендую всецело 8/10
Небольшой "спойлер": в определенный момент я подумал "неужели, Му-му" (да, уж))) но, нет - не "Му-му".

«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками».
Четверо посредственных, но обеспеченных учителей среднего возраста за ужином с черной икрой и коллекционным вином открывают для себя преимущества регулярного подшофе для развития педагогического таланта и успехов в личной жизни. Серьезно? На уровне 0,5 промилле фильм будто создан для очередного римейка "Квартета И", с повышением уровня опьянения сам превращаясь в римейк "Ольги" с поправкой на датский колорит. Да - Канны, да - Миккельсен, да - Винтерберг. Но сценарий! Наблюдать, как в стране, где молодежь регулярно устраивает алкогольные забеги с ящиком пива и блюет на скорость, старшее поколение удивляется эффекту от повышения градуса и смешения водки с портвейном, весело, но, честно говоря, непонятно. Мадс снова слишком хорош для роли тоскующего учителя, слишком ярок в своем "датствовании", поэтому антиалкогольного эффекта, если у режиссера была подобная задача, фильм отнюдь не производит. Хотя и оставляет несколько гнетущий осадок, за который отвечает философия Кьеркегора, поднимающая историю четырех ученых выпивох, их, в целом, безразличных жен и утомительных детей до уровня экзистенциального кризиса, заливаемого брендовым пивком.

Несмотря на то, что смотрел этот фильм с неоднозначной спутницей, и всё пошло не так, понравилось. НЕ Голливуд и НЕ Америка, что я очень люблю. Вот только посыл фильма не понял. Больше впечатлений, не только о кино, в моём телеграм канале Рыба в Робе. Подписывайтесь.

Фильм удивил!
Казалось бы началось всё с банальной пьянки, а потом разыгралась нешуточная драма!
И вопросы подняты серьёзные!
Актёрская игра порадовала!
Всем советую!
Пожалуй, это лучшее что я видел в конце 2020 года.
Skål!
Слегка неавангардное кино для сооснователя движения Догма-95, зато соблюдён баланс авторского и массового жанра. Забавный сюжет, с точки зрения инфантильного азарта главных героев, ныне состоявшихся взрослых мужчин, - это скорее ловушка, на которую Винтерберг притягивает простого зрителя погрузится в остросоциальное кино. Здесь поднимается не только проблема кризиса среднего возраста, но и подросткового алкоголизма, и, как следствие, выстраивается параллель между пагубной зависимостью сорокалетних мужчин, теряющих работу и семью, и веселящихся до тошноты в прямом смысле подростков, самой большой заботой которых на сегодняшний день является оценка за экзамен. Затянутая и скучная рефлексия главных героев об упущенных возможностях и недостатке счастья почти вовремя сменяется на их нереалистичные «алко-подвиги», что в целом даёт ощущение условного, поучительного кино, удобоваримого для масс и их сознания. Как итог, всё, что вам нужно - это не половина промилле алкоголя в крови(по той самой псевдотеории), а любовь и вера в себя. В заключительной сцене алко-драмы герой Миккельсена исполняет из ряда вон танец, но не во славу, а словно вопреки.
P.S. В ленте немало отсылок к традиционному русскому алкоголизму вплоть до курьезных видеоотрывков с участием Ельцина, хотя сама Дания является очень пьющей страной. Фильм посвящён дочери режиссёра, погибшей в процессе съёмок.

Фильм про то как датские мужики решили забухать и жили месяц своей жизни так, как русские проживают всю. Испугались, перестали, но...
Не пожалел, что посмотрел. Но можно и не в кино
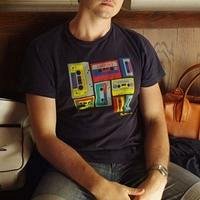
Четверо мужчин 40+ работают в школе, дружат, пытаются как-то не офигеть от бессмысленности бытия. Взяв в заложники теорию о недостатке алкоголя в крови (мы перестали есть полежалые фрукты и овощи, и вообще очень много пьем воду нынче), они начинают выпивать ежедневно на работе.
Винтерберг снял простую историю о непростых вещах. Алкоголизм скользкая тема для кинематографа. Ее хорошо показывать на фоне катарсиса или излечения, но тут совсем другая песня. «Выберите из трех кандидатов. - Говорит учитель классу - Первый: болел всем, что только можно, парализован ниже поясницы, однажды избил женщину, курит и пьет как не в себя; второй: сквернослов, агрессивен, несдержан, лечился в психиатрической клинике, страдает ожирением, был 12-м по успеваемости в классе из 13 учеников, попытка суицида, ежедневно выпивает, очень много курит, нобелевский лауреат по литературе; третий: физически здоров, уважительное отношение к женщинам, учился в архитектурном институте, хорошо поставленная речь, не употребляет алкоголь и не курит. Кого вы выберете?
- Третьего! - Кричит класс
- Поздравляю! Вы только что проголосовали за Гитлера и отвергли Рузвельта и Черчилля. К чему я? К тому, что жизнь - сложная штука.» Авторы фильма тоже задают неуютные вопросы в лоб, заставляя оперировать неоднозначными данными. Кого вы выберете: потерянного, скучного, потухшего, трезвого мужчину; или горящего, уверенного в себе, работающего с подростками как в сцене выше?
За социально-психологическим контекстом (который сам по себе интересен) проступают как минимум две темы помощнее.
Во-первых, тема попроще: человек все хорошее в ненасытной погоне за лучшим превращает в говно. Буддисты говорят, что человек либо в погоне за лучшим, либо в тревоге его удержания, и это проклятье. Через доходчивые и милые сердцу циферки промилле на экране, мы наблюдаем поведенческую иллюстрацию грустного тезиса.
Во-вторых, тема посложнее: все бессмысленно. Так ли уж хорошо быть хорошим? Так ли уж хорошо вообще быть? Нужна определенная смелость подискутировать об этом, показывая на экране пьяных. Выпавших из системы. Помимо того, что сносящий косяки - вечный источник смешков, он еще и вечный источник тревог, стыда, угрозы... Сумасшедший по собственному выбору. Рукотворный. Возможно, свой главный танец - отчаянный, красивый и невыносимо грустный - он может станцевать только став сумасшедшим, увеличив промилле в крови...
Выпивший студент, которому тревога блокирует речь на экзамене, получает-таки аттестат в жизнь, рассуждая о возможности истинно давать что-то ближнему только после того как упал, согласно Кьеркегору. «Можете привести в пример кого-либо? - спрашивает экзаменатор - Конечно! Я.»

Отличное кино - ироничное, глубокое, оптимистичное, со своим особым привкусом беззаботности бытия и реальности мира. Есть о чем подумать и поразмышлять.

Всегда вызывали восхищение люди, которые из неочевидной истории делают "конфетки". Конечно, помог состояться фильму и Мадс, чье финальное соло надолго остается в памяти!
●Унылая ода опьянению●
Один датский учёный всерьёз утверждал, что человеку для счастья нужно 0,5 промилле в день. Четыре уставших от жизни и работы учителя не менее серьезно начинают проверять эту теорию ― с полной самоотдачей!
●
С первых же секунд эксперимента выясняется, что быть кумирами детей и мыслить нестандартно они могут только под алкоголем ― и это ужасно печально.
●
Дальше ― ещё грустней. Почувствовав вкус популярности, они хотят больше, ещё больше.
●
Фильм по ощущениям сравним с отходняком после вечеринки ― совсем невесело и молишь бога, чтобы оно поскорей закончилось. Из хорошего ― последние 5 минут. Лучше бы в бар сходила, чем это смотреть.

Перед нами отнюдь не очередная антиалкогольная агитка: снятый с легким юмором, но, правда, слегка приторный по своему оптимизму фильм учителя Триера, Томаса Вюртенберга — вовсе не про опасность алкоголизма, или же особо актуального для русских масс-медиа "жизнерадостного пьянства", сколько о ценности семьи, ее важной роли в жизни человека, и опасности потери социальных связей: иначе говоря, не стоит регулярно подбухивать, если ты живешь с котом, пусть даже и виртуальным, если в твоей жизни нет друзей, работы, и любви — ни к чему хорошему это в итоге не приведет. Если в твоей жизни есть база или опора, то на резких поворотах алкоголь принесет новый опыт, пусть и не всегда легкий. Именно об этом, а не об ужасе алкогольного яда и говорит каким то совершенно чудесным образом попавший на экраны в такое непростое время этот отличный фильм.

С виду простой, но удивительно точный, правдивый фильм без ненужного морализаторства. Прекрасные актеры, Винтерберг снял один из лучших своих фильмов.

Фильм отличный, не пожалеете. Смотреть после 35. Мадс магический, свет божественный, what a life до сих пор в голове играет. Нельзя уставать от жизни и нужно уметь вовремя отпустить контроль, чтобы не забывать жить.

Когда в жизни чего-то не хватает, может, это алкоголя? Так решили четверо учителей в датской школе. Мужское братство поддержал общий эксперимент: ежедневная доза 0,5 промилле каждый день, которая со временем стала расти. Что было дальше? Нам ли в России не знать:)
И все же..в Дании всё не совсем так, как у нас. И школа, и кризис среднего/старшего возраста, и семейные отношения, и социальные нормы.
Извечный вопрос: как снова стать молодым и не бояться упасть, чтобы подняться..и танцевать у всех на виду легко и непринужденно..
Вроде все просто. Но как говорит главный герой, мир сложнее, чем кажется на первый взгляд. И к выбору, который мы делаем каждый день, надо подходить серьезно.
Cовет.Если не чувствуете в себе силы сопротивляться зеленому змию, не смотрите фильм, можете сорваться.
Это не фильм, а большой рекламный ролик, гимн питию, профессиональный продакт-плейсмент. И до чего ж красиво и атмосферно снято!
Рекомендую тем, кто готов к авторскому кино.

Диалоги унылы, как и всё остальное. Я не знаю, кому там весело в конце было, разве что местами в середине.


